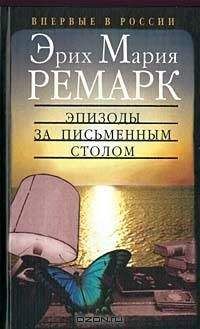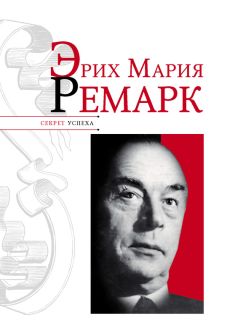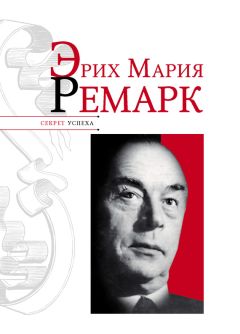Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]
— Фрейя, принеси мне бутылку пива.
— Принеси ему бутылку шампанского, Фрейя! Пусть он пьет свое шампанское, пока не взлетел вместе с ним на воздух! Пробки долой! Пх! Пх! Пх! Нужно обмыть очередную победу!
— Перестань, Сельма…
Фрейя ушла в кухню.
— Я тебя еще раз спрашиваю — да или нет? — выпрямившись, решительно произнесла Сельма. — Ты заберешь нас сегодня вечером к себе наверх или нет?
Нойбауер посмотрел на свои сапоги. Они были покрыты пеплом. Пеплом от ста тридцати тысяч марок.
— Если мы сейчас вдруг, ни с того, ни с сего, это сделаем, пойдут разговоры. Не потому, что это запрещено, — просто мы до сих пор этого не делали… Начнут болтать, что я пользуюсь своим служебным положением, в то время как другие вынуждены подвергаться опасности здесь, в городе… И потом, наверху сейчас действительно опаснее, чем здесь. Теперь они примутся за лагерь. У нас ведь там — военное производство.
Кое в чем он был прав. Но главная причина его отказа заключалась в том, что ему хотелось по-прежнему жить одному. Там, в лагере, у него была своя личная жизнь, как он выражался. Газеты, коньяк, время от времени — женщина, которая весила на тридцать килограммов меньше Сельмы, женщина, которая слушала, когда он говорил, которая ценила его ум, восхищалась им как мужчиной и нежным, внимательным кавалером. Невинная забава, в которой он черпал силы для дальнейшей борьбы за существование.
— Пусть болтают, что хотят! — не сдавалась Сельма. — Ты должен думать о своей семье!
— Давай поговорим об этом позже. Сейчас мне нужно на заседание партийного бюро. Посмотрим, что там скажут. Может, уже давно ведется подготовка к расселению людей по деревням. В первую очередь, конечно, тех, кто лишился жилья. Но может быть, и вам удастся…
— Никаких «может быть»! Если мне придется остаться в городе, я… я… Я буду бегать по улицам и кричать, кричать!…
Фрейя принесла пиво. Оно было теплое. Нойбауер отпил глоток, с трудом подавил в себе желание рявкнуть и встал.
— Да или нет? — еще раз повторила Сельма.
Фрейя кивнула ему из-за спины матери и сделала знак рукой, чтобы он пока согласился.
— Ну хорошо — да! — раздраженно ответил он.
Сельма Нойбауер открыла рот. Напряжение вырвалось из нее, словно воздух из надувного шара. Она ничком повалилась на диван, обтянутый тем же гобеленом, что и кресло графини Ламбер. Через секунду это уже была просто гора мяса, сотрясаемая рыданиями.
— Я не хочу умирать!.. Не хочу!.. Сейчас, когда у нас столько… столько добра!.. Не хочу…
Со спинки дивана сквозь ее растрепанные волосы с веселым равнодушием смотрели в никуда из своего восемнадцатого века пастухи и пастушки.
«Ей легко, — мрачно думал Нойбауер, с отвращением глядя на жену, — ей можно орать и реветь. А мне каково? Никто не спросит, что у меня на душе. Все приходится глотать молча… Изображать спокойствие и уверенность — этакий гранитный утес посреди бушующего моря. Сто тридцать тысяч марок! Она даже не спросила о них».
— Смотри за ней, — коротко бросил он Фрейе и вышел из комнаты.
За домом в саду маячили фигуры русских пленных. Они продолжали работать, хотя уже стемнело. Нойбауер велел им несколько дней назад быстро вскопать часть земли, чтобы посадить там тюльпаны. Тюльпаны и еще петрушку, майоран, базилик и другую зелень. Он любил зелень. Особенно в салатах и соусах. Это было несколько дней назад. С тех пор прошла целая вечность. Какие тюльпаны! Сгоревшие сигары — вот что ему сейчас впору было сажать! И удобрять их расплавленными литерами из типографии.
Заметив Нойбауера, русские еще ниже склонились над своими лопатами.
— Ну что вытаращились? — спросил Нойбауер, не в силах больше сдерживать ярость.
Один из них, тот что постарше, ответил что-то по-русски.
— А я говорю — вытаращились! Ты и сейчас пялишься на меня, свинья большевистская. Еще огрызается! Рад, небось, что имущество честных граждан гибнет? А?
Русский молчал.
— Вперед! За работу, лодыри несчастные!
Они не поняли его. Уставившись на него, они из всех сил старались сообразить, чего он от них хочет. Нойбауер пнул одного из них сапогом в живот. Тот упал. Затем медленно поднялся, опираясь на лопату, и взял ее в руки. Нойбауер увидел его глаза, его руки, сжимавшие черенок лопаты, и вдруг остро, словно удар ножа в живот, почувствовал страх. Он выхватил револьвер.
— Ах ты мерзавец! Еще и сопротивляться?..
Он ударил его в лоб рукояткой нагана. Пленный упал и больше уже не поднялся.
— Да я тебя… мог бы пристрелить! — проговорил Нойбауер, тяжело дыша. — Ишь, вздумал сопротивляться! Захотел ударить меня лопатой! Да за это тебя расстрелять мало! Благодари Бога, что я чересчур добрый. Другой бы на моем месте пристрелил тебя, как собаку! Он взглянул на часового, стоявшего в стороне по стойке «смирно». — Другой бы пристрелил его, как собаку. Вы же видели, как он собирался замахнуться лопатой.
— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.
— Ну ладно. Вылейте ему на башку ведро воды.
Нойбауер покосился на второго русского. Тот копал, низко склонившись над лопатой. Лицо его абсолютно ничего не выражало. На соседнем участке захлебывалась от лая собака. Ветер хлопал бельем на веревке. Нойбауер заметил, что во рту у него пересохло. «Что это со мной? — думал он. — Испугался? Ничего подобного. Чтобы я — испугался?.. Тем более какого-то придурковатого русского. А кого же тогда? Или чего? Что со мной происходит? Просто я чересчур добрый, вот и все. Вебер на моем месте медленно забил бы его насмерть. Дитц просто пристрелил бы его, не моргнув глазом. А я нет. Я слишком сентиментален — вот мой недостаток. Недостаток, который мешает мне на каждом шагу. И с Сельмой тоже.»
Машина ждала его у калитки. Нойбауер невольно подтянулся.
— В новый комитет партии, Альфред. Туда еще можно проехать?
— Только в объезд, вокруг города.
— Хорошо. Поезжай в объезд.
Водитель развернул машину. Нойбауер взглянул на его лицо.
— Что-нибудь случилось, Альфред?
— Мать погибла.
Нойбауер нервно заерзал на сиденье. Только этого ему еще и не хватало! Сто тридцать тысяч марок, истерика Сельмы, — а теперь еще нужно произносить какие-то слова, утешать.
— Мои соболезнования, Альфред, — коротко, по-военному четко сказал он, чтобы поскорее избавиться от этого неприятного долга. — Скоты! Убивать женщин и детей!..
— Мы их тоже бомбили. — Альфред не отрываясь смотрел на дорогу. — Первыми. Я сам там был. В Варшаве, Роттердаме и Ковентри. До ранения, пока меня не списали в тыл.
Нойбауер изумленно уставился на него. Да что же это такое сегодня? Сначала Сельма, теперь шофер! Что они все, с цепи посрывались, что ли?
— Это разные вещи, Альфред, — сказал он, — совсем разные вещи. Тогда это было обусловленно требованиями стратегии. А то, что делают они, — это чистейшей воды убийство.
Альфред не отвечал. Он думал о своей матери, о Варшаве и Роттердаме, о Ковентри и о жирном маршале, который командовал германской авиацией.
— Так рассуждать нельзя, Альфред, — продолжал Нойбауер. Альфред тем временем с остервенением взял очередной поворот. — Это уже почти измена! Я вас, конечно, понимаю, у вас горе, но все же… Будем считать, что вы ничего не говорили, а я ничего не слышал. Приказ есть приказ, и нам ни к чему угрызения совести. Раскаяния и сомнения — это не по-немецки. Фюрер знает, что делает, а мы выполняем его волю. Вот так. Он еще отплатит этим убийцам! Вдвойне и втройне! С помощью нашего секретного оружия! Мы еще бросим их на лопатки! Уже сейчас мы день и ночь обстреливаем Англию нашими снарядами Фау-1. Мы превратим их остров в кучу пепла, с помощью наших новейших открытий. В последний момент! А заодно и Америку! Они заплатят за все! Вдвойне и втройне… — Нойбауер почувствовал себя гораздо увереннее и уже почти верил в то, что говорил.
Он достал из кожаной коробки сигару и откусил кончик зубами. Ему хотелось говорить еще, у него вдруг появилась острая потребность в этом. Но, увидев плотно сжатые губы Альфреда, он поборол в себе это желание. «Кому я нужен? — с горечью подумал он. — Каждый занят собой. Надо было поехать за город, в сад. Кролики… Мягкие, пушистые. Рубиновые глазки в сумерках…» Он давно, еще с детства, мечтал иметь кроликов. Отец не разрешал. Теперь они у него были. Запах сена и теплой шерстки и свежих капустных листьев. Сладко-щемящая грусть детских воспоминаний. Забытые мечты. Как все-таки чертовски одиноко бывает иногда! Сто тридцать тысяч марок. Самая крупная сумма, которую ему в детстве удалось накопить, была семьдесят пять пфеннигов. Да и те у него через два дня украли.
Старый город горел, как солома. Он состоял почти из одних деревянных построек. Огонь прыгал от дома к дому. Река, отражавшая языки пламени, казалось, горела вместе с городом.
Ветераны, которые еще могли ходить, сгрудились перед бараком, словно стайка тощих, взъерошенных воробьев на грязном снегу. В багровой тьме им были видны пустые пулеметные вышки. Небо, затянутое тонким слоем пушистых серых облаков, было расцвечено пожаром, как оперенье фламинго. Огонь поблескивал даже в глазах мертвецов, которые были аккуратно уложены один на другого в нескольких шагах от них.